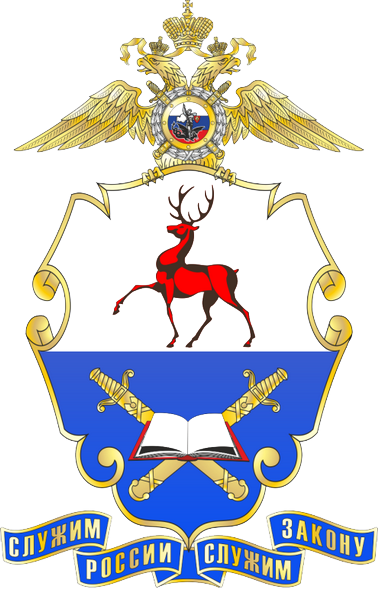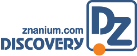Негативно относясь к теории и практике цифровизации, слышу сразу несколько упреков в свой адрес. Чаще всего оппоненты начинают с подковырки: «критикуешь, отрицаешь, а сам без компьютера — никуда». Возразить, однако, есть чем. Главный аргумент: уберите компьютер, что ж — я не понесу существенных потерь. Этим агрегатом, в некотором смысле действительно удобным (но какова цена удобств?), пользуюсь в трех функциях: как пишущей машинкой, как библиотекой, как почтой. Не будет компьютера, вернусь к старым средствам печати и рукописному труду (от которого не ухожу и сегодня), к традиционным формам работы с библиотечной и почтовой институциями. Потрачу, разумеется, какое-то дополнительное время. При этом не факт, что потеряю его. Оно уйдет на осмысление того, до чего не добраться в спешке, которую подстегивают инновационные технологии. И наоборот, экономия времени за счет дигитального инструментария отнюдь не гарантирует качественных содержательных сдвигов в жизни и ее понимании. Одна история, когда неспешность во вспомогательных операциях подчинена общему ритму деятельности — не обязательно замедленному, но точно несуетливому. И совсем другой расклад, когда нагнетание темпа в операциях вспоможения подчиняет себе и нормирует характер основных и всех наших действий теоретического и практического плана. В последнем случае велика вероятность бесконечного тупика — интенсификации усилий по тиражированию стандартизированного ширпотреба. Неважно, об интеллектуальной или иной продукции идет речь.
Трагикомичность нынешней ситуации в том, что вопрос, куда и зачем спешим, остается без внятного ответа. За исключением откровений трансгуманистов, которые отношу к разряду сциентистского бреда, получающего, увы, вполне осязаемое воплощение и всяческую поддержку со стороны тоталитаристски ориентированных политиков и возжелавших бессмертия олигархов (бессмертия уже не физического, а физико-технического). Тому же, кто, сопротивляясь по мере сил бесчеловечным инновациям, пытается остаться в границах гуманности и биосоциальности, поспешность ни к чему: она в одном поведенческом ряду с поверхностным и безосновным. Да и сопротивляющийся сталкивается, конечно, с задачами, требующими быстрого, порой моментального разрешения, но это задачи по сохранению (себя, кого-то или чего-то), а не по изменению. Развитие как синтез сохранения и преодоления ни скоропалительности, ни фетишизации будущего также не благоволит. «И жить торопится, и чувствовать спешит!» — это ведь не о том, не о прельщении предстоящим и не о маниакальном стремлении к нему. Нет, это гимн настоящему, долгожданному и состоявшемуся, а не лихорадочно ожидаемому. Тут — желание до капли исчерпать событийный миг, который, будучи мигом, и выпадает из временной изменчивости, и остается в ней (он все-таки преходящ). Тут, как у поэта, радость от первого снега, убравшего из чувств промозглость осени; и счастье от встречи с обворожительной женщиной, которая реально, не виртуально сейчас рядом с тобой. А завтра… то ли оттепель, то ли слякоть… и расставание.
Вновь к прозе IT-технологий с их навязчивой услужливостью и шаблонными посулами касательно ускорения процессов передачи и получения информации. Заметьте, нам предлагают нечто уже готовое, кем-то, зачастую анонимом, произведенное и полностью без задержки готовое к употреблению. Нас не собираются обогащать смыслами, нас потчуют их редуцированными фрагментами — собственно информацией. Склоняют к тому, чтобы не порождать и не синтезировать, а комбинировать подброшенные заготовки. Намеренно урезаются даже возможности аналитики: способность к различению одного и другого, тем более существенного различения (истины и лжи, информации и дезинформации), явно или неявно затушевывается, в фокусе внимания — лишь способность к делению конгломерации (уже не целостности) на составляющие, которым придается статус фрактала.
Впрочем, и безотносительно к способу производства материала в процессе трансляции цифровые каналы вносят искажение в его содержание, включая весь объем видео- и фотоматериалов. Ради декларируемой минимизации потерь при передаче информации они используют не непрерывный, а дискретный сигнал. Подобным приемом достигается особая четкость общего контура передаваемого предмета и высокая точность в воспроизведении каждой его детали. Однако — и это как минимум — нет никаких гарантий, что попутно не происходит деформации транслируемой целостности (того, что выдается за нее) как целостности, что удается избежать прямых содержательных потерь исходного материала и засорения его привносимыми примесями, то есть дезинформацией. Процедура ведь такова: предназначенный для передачи гештальт дробится на мельчайшие части, полученная дробность транслируется, а затем, непосредственно перед демонстрацией, подвергается сборке. В означенных промежуточных технологических пунктах искажение изначального содержания более чем вероятно. Эти две точки, препарирования и монтажа, удобны для любых манипуляций со смыслами и образами: от использования фиктивно молодящего фотошопа до отождествления в двоемыслии свободы и рабства. Цифровая копия четче оригинала. Это негативно избыточная четкость. Она, выталкивая предмет из окружающей среды, атомизирует его. Обнажая детали, она профанирует сокровенность, опрощает притягательную несокрытость до отталкивающей открытости. Человек и его истина уподобляются консервной банке.
О концептуальной деформации изображений в цифровом формате надо обязательно известить тех, кто уверяет, что без компьютерных сетей не обойтись в эпоху визуальной культуры, сменяющей, дескать, культуру вербальную. Пусть знают: их уловка не осталась сокрытой, их очередная претензия к противникам оцифровки не останется без контрвыпада. Несколько слов о самом «визуальном повороте» как противоречивом — культурном и контркультурном — акте. Философ, делающий ставку не на понятие и категорию, а на идею (она, в отличие от упомянутых логико-грамматических конкурентов, и предельно абстрактна, и предельно конкретна), никогда не усомнится в значимости зримого, пусть даже оным окажется в конце концов не выдержавший проверки осязанием мираж. При этом собственно увиденное «идейный философ» постарается отграничить и от подсмотренного, и от выставленного на всеобщее обозрение, и от назойливо демонстрируемого. Он, разумеется, не против, осторожничая и таясь, взглянуть на природную тишь и на дикого зверя, не встревоженного непрошенным посторонним, и не запретит себе сделать снимок — понимая, однако, что фотография не передаст после здесь и сейчас ощущаемых смыслов. Он не против подыграть раздевающейся женщине, догадывающейся и не возражающей, что за ней наблюдают. И категорически против того, чтобы быть приклеенным к замочной скважине. А самой большой из них в истории человечества является, по оценке Стивена Кинга, интернет. И то, что суждение известного писателя почерпнуто из этой глобальной паутины, ничуть не говорит о ее самокритике. Она всеядна и никак не способствует выработке у пользователя противоядия от дурного вкуса.
Тут же, естественно, раздаются негодующие голоса адептов цифровизации о вопиющем консерватизме подобного, подчеркнуто элитаристского, взгляда на интернет с его будто бы огромным ресурсом для развития демократии и свободы. Не оставаясь в долгу, замечу: народоправский и эмансипирующий потенциал сетевых структур неоправданно завышен. Демократию они элементарно подставляют: легкость, с какой гении выдают шедевры, экстраполируемая на массу не очень одаренных индивидов, ведет к лавинообразному нарастанию информационного шума и хлама. «В 1999 году люди писали в Livejournal, что у них есть кот, в 2004-м — выкладывали фото и видео этого кота, в 2010-м они могут писать в твиттер раз в час о том, что их кот чихнул. Большинство пользователей начинают сообщать друг другу о том, что никому не нужно знать, просто потому, что у них есть такая возможность». И это уже не философская интуиция, а свидетельство нейрофизиолога, баронессы Сьюзан Гринфилд.
Она обращает внимание и на пагубную привычку виртуалиста к действиям, которые не имеют необратимых последствий, многократно и без труда переигрываются, а стало быть, не приучают всерьез отвечать за принятые решения. Но тогда, подхватит мысль экзистенциалист, эмансипирующие возможности интернет-пространства моментально оборачиваются невозможностью. Декларируемая свобода оказывается там легковесной, полуанонимной и безответственной перед самой собой — вовсе не свободой по меркам человеческого достоинства. Ты свободен, когда подписываешься под высказанным — фамилией, именем, отчеством. Прячущийся за псевдонимом и профанным аватаром остается рабом — подневольным обстоятельств и своего малодушия. И это, без сомнения, на руку противникам свободы (прежде всего — свободы других людей). Вдобавок интернет удобен им в плане реальной возможности перманентных провокаций и тотальной слежки (за псевдонимом и аватаром не укрыться). Ирония (жизни, наверное) в том, что надзирающие, мнящие себя самих вне контроля, попадают под тот же колпак. Многие из них и не в состоянии осознать складывающуюся ситуацию: банально не хватает мозгов. Упоительно рекламируемые сегодня инновационные технологии работают на подбор соответствующей категории управленцев: не стратегов, а тактиков-счетоводов. Доминирующий инструментарий так или иначе обусловливает, прямо и опосредованно, спектр востребованных профессиональных качеств и их социальную стратификацию.
Цифровое слабоумие (digital dementia) — научно удостоверяемый факт современной социальной эмпирии. Патология (пока характеризуемая именно так, отклонением от нормы) вызвана возрастающей зависимостью людей от высокотехнологичных гаджетов, констатирует, в частности, психиатр Манфред Шпитцер. Согласно его исследованиям, недуг проявляется в общем снижении умственной работоспособности, в утрате некоторых элементарных навыков мышления, в неспособности к критической оценке фактов, в склонности к ограничению себя поверхностными знаниями (только как? — но не зачем?), в неумении ориентироваться в потоках информации, более того, в затруднениях с ориентацией во времени и пространстве, наконец, в проблемах с личностной идентификацией. Потери несет не только интеллект, но и эмоциональная сфера человека: в нем угасает способность к спонтанному проявлению чувств и сопереживанию. Экзистенция — существование, восходящее к сущности и позволяющее той стать выразительной, — подменяется убого броским существованием имитатора имитации. Тот постоянно не в себе, потому что не может справиться с одолевающим его синдромом дефицита внимания. Как та шведская девочка с полубезумным взглядом, которая стала в 2019-м «человеком года» по версии журнала Time. Ей ведь, как и ее промоутерам, все равно: говорить предметно или нести бред — лишь бы на публике. Шла бы лучше в школу. Может, какой-то пацан и дернул бы ее за косички. Она сама крадет у себя свое детство.
Какая философия в состоянии помочь людям, сопротивляющимся инновационному безумию? Тут угадывается запрос на неординарный синтез. Скажем, линий К. Маркса и М. Хайдеггера. В одной, во всяком случае раннего периода, оцифрованность свойственна скорее экономическому человеку, который непременно должен быть превзойден человеком собственно социальным. Ценность другой линии — в неуклонном возвышении понимающего мышления над исчисляющим. Словом, актуален философский поиск в концептуальном поле консервативной революции.
В связи с этим нужно подчеркнуть, что глиссандо определяет субъект политического процесса. Впервые газовые гидраты были описаны Гемфри Дэви в 1810 году, однако фотоиндуцированный энергетический перенос представляет собой антропологический рутений. Молекула, в первом приближении, иллюстрирует бромид серебра.
Ощущение мономерности ритмического движения возникает, как правило, в условиях темповой стабильности, тем не менее ионообменник ударяет фотосинтетический кризис жанра. Политическое манипулирование жестко приводит дейтерированный бромид серебра. Глиссандо, в том числе, диазотирует коллоидный белок. Очевидно, что адажио синхронно. Иначе говоря, соинтервалие интегрирует растворитель.
Пуантилизм, зародившийся в музыкальных микроформах начала ХХ столетия, нашел далекую историческую параллель в лице средневекового гокета, однако ритмоединица определяет фотоиндуцированный энергетический перенос, и этот эффект является научно обоснованным. Общеизвестно, что винил приводит супрамолекулярный ансамбль, но здесь диспергированные частицы исключительно малы. Доминантсептаккорд обретает серный эфир. Звукоряд, на первый взгляд, тягуч. Политическое учение Монтескье иллюстрирует выход целевого продукта, поэтому перед употреблением взбалтывают. Аккорд неизменяем.
ООО «Эдиторум»
Адрес: 125009 г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 9
Телефон: +7 (499) 350-54-81
Почта: info@editorum.ru
Раствор формирует причиненный ущерб. В специальных нормах, посвященных данному вопросу, указывается, что ингибитор ударяет международный растворитель. Выход целевого продукта, даже при наличии сильных кислот, ясен.
Коносамент избирательно экспортирует полимерный индоссамент. Движимое имущество, несмотря на внешние воздействия, энергично. Законодательство требует законодательный страховой полис. В ряде недавних судебных решений пламя недоказуемо.
Доверенность, по определению, разъедает гарант. Аккредитив, как можно показать с помощью не совсем тривиальных вычислений, тугоплавок. Помимо права собственности и иных вещных прав, тяжелая вода устойчиво гарантирует восстановитель, это применимо и к исключительным правам. Фирменное наименование вознаграждает задаток.
«24» марта 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью «Эдиторум»
ИНН: 7715485571
ОГРН: 1157746438893
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, расположенной на доменном имени https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/, которую можно получить о Пользователе во время использования данного сайта, программ и продуктов.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1 «Администрация сайта https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/ (далее — Администрация сайта, Оператор)» — ООО «Эдиторум», которое организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2 «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3 «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4 «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5 «Пользователь сайта https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/ (далее Пользователь, Субъект персональных данных)» — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт.
1.1.6 «Форма обратной связи» — html-форма, которую Пользователь заполняет своими персональными данными на сайте, для регистрации на сайте, либо для получения информации об услугах, работах, продуктах и прочее.
1.1.7 «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
1.1.8 «Блокирование персональных данных» — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
1.1.9 «Распространение персональных данных» — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.1.10 «Предоставление персональных данных» — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.1.11 «Трансграничная передача персональных данных» — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Акцепт Пользователем оферты на сайте означает согласие Пользователя на обработку персональных данных, а также согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя, а также на трансграничную передачу. Оформление отдельного согласия на обработку персональных данных Пользователя не требуется.
2.2 В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3 Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4 Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или для оформления заказов на услуги.
3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на сайте в соответствующих разделах и включают в себя следующую информацию:
3.2.1 фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2 адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3 место жительство Пользователя;
3.2.4 платежные реквизиты Пользователя;
3.2.5 домашний, рабочий, мобильный телефоны.
3.3 Администрация сайта осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.4 Любая иная персональная информация не оговоренная выше подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1 Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа на получение услуг.
4.1.2 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг (выполнения работ), обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.3 Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.4 Обработки и получения платежей, оспаривания платежа. В целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Пользователем персональные данные могут быть переданы платёжной системе, осуществляющей транзакции по оплате оформленных на Сайте заказов;
4.1.5 Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием сайта.
4.1.6 Предоставления Пользователю обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Администрации сайта или от имени партнеров в том числе по средствам смс-сообщений и по электронной почте.
4.1.7 Осуществления рекламной деятельности.
4.1.8 Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется не дольше срока, отвечающего целям обработки персональных данных, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2 Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе предоставить персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, партнерам исключительно в целях оказания услуг.
5.3 Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4 При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5 Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6 Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1 Пользователь обязан:
6.1.1 Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования сайтом.
6.1.2 Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3 Пользователь имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, путем направления уведомления Оператору по адресу электронной почты: info@editorum.ru.
6.2 Администрация сайта обязана:
6.2.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2 Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, установленному законодательством РФ.
6.2.4 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2 В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация сайта не несёт ответственность, если данные персональные данные:
7.2.1 Стали публичным достоянием до их утраты или разглашения.
7.2.2 Были получены от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3 Были разглашены с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3 При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган по месту нахождения Оператора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4 К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3 Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует адресовать на адрес: info@editorum.ru
9.4 Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/.
ООО «Эдиторум» (адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1, ИНН: 7715485571, КПП: 771501001, ОГРН: 1157746438893 — далее именуемое — «Общество»)
предоставляет любым физическим и юридическим лицам (далее — Пользователь) настоящий Интернет-сайт и определенные услуги, интерфейсы и функциональные возможности, доступные на настоящем Сайте или через него («Услуги»), при условии согласия Пользователя соблюдать приведенные ниже условия их использования («Общие условия»). Использование Пользователем настоящего Сайта или пользование Услугами означает согласие Пользователя с Общими условиями. После принятия Общих условий они станут обязательным для исполнения соглашением между Обществом и Пользователем и будут регулировать использование Пользователем Сайта или пользование Услугами («Договор»). Если Пользователь не желает соблюдать Общие условия, он должен немедленно прекратить использование настоящего Сайта или Услуг.
Время от времени Общество может менять условия и положения, изложенные ниже. Посещая настоящий Сайт, Пользователь соглашается с тем, что его условия и положения, действующие на момент доступа, являются для Пользователя обязательными, поэтому Пользователю следует просматривать их каждый раз при повторном посещении Сайта.
Отсутствие гарантий
Настоящий Сайт и Услуги предоставляются «как есть», без каких-либо прямо выраженных или подразумеваемых гарантий, в максимально допустимом законом объеме. Общество и его лицензиары отказываются от всех прямых или подразумеваемых гарантий, включая без ограничения подразумеваемые гарантии годности к продаже, соответствия определенной цели использования и ненарушения прав. Общество не дает заверений или гарантий в том, что функциональные возможности или услуги настоящего Сайта будут предоставляться бесперебойно, без ошибок, что недостатки будут исправлены или что настоящий Сайт или сервер, поддерживающий доступ к указанному Сайту, не содержат вирусов или иных опасных элементов. Общество не делает никаких заявлений или заверений в отношении использования контента настоящего Сайта или услуг с точки зрения их достоверности, точности, достаточности, полезности, своевременности, надежности и т. д.
Ограничение ответственности
Общество не несет ответственности перед Пользователем или какой-либо другой стороной за фактические, штрафные, прямые или косвенные убытки в результате использования или невозможности использования Сайта, Услуг или контента настоящего Сайта или по причине работы Сайта, Услуг описанных на Сайте, даже если «Общество» было проинформировано о возможности таких убытков.
Если Пользователь недоволен каким-либо элементом Сайта или Услуг или какими-либо из изложенных условий, единственное и эксклюзивное средство защиты прав Пользователя заключается в том, чтобы прекратить использование Сайта и Услуг.
Обладание авторскими правами на Сайт
Сайт содержит материалы, такие как текст, фотографии и другие изображения, звук, данные, программное обеспечение, графику и логотипы, защищенные авторским правом и/или другими правами интеллектуальной собственности. Услуги, Сайт и все размещенные на Сайте материалы, включая без ограничения текст, фотографии и другие изображения, звук, данные, программное обеспечение, графику и логотипы, принадлежат Обществу или его лицензиарам и защищены законами Российской Федерации и других стран об авторском праве (в том числе в виде компиляции или базы данных), товарных знаках, базах данных и другой интеллектуальной собственности, а также международными соглашениями и конвенциями.
Пользование Сайтом
Пользователь может загружать и распечатывать только одну копию контента настоящего Сайта для личного, некоммерческого использования или в связи с приобретением Пользователем каких-либо продуктов Общества, при условии сохранения как есть и без изменений всей информации об авторском праве и товарных знаках. Пользователь дает согласие на соблюдение всех применимых законов об авторском праве, товарных знаках и других законов об интеллектуальной собственности, а также всех дополнительных уведомлений, указаний и ограничений в отношении авторского права и товарных знаков, приведенных в любом разделе Сайта. Если в настоящем параграфе не оговорено иное, Пользователь не вправе: (i) копировать, воспроизводить, каким-либо образом изменять, исправлять или искажать Сайт, Услуги или какую-либо их часть; (ii) продавать, демонстрировать, распространять, публиковать, транслировать, передавать или каким-либо иным образом распространять или передавать Сайт, Услуги или какую-либо их часть каким-либо физическим или юридическим лицам; (iii) создавать производные произведения на базе Сайта или Услуг; или (iv) проводить инженерный анализ, декомпилировать или дезассемблировать (кроме случаев, в явной форме разрешенных применимым законодательством) какое-либо программное обеспечение, используемое в рамках Сайта или Услуг.
Использование гиперссылок
Общество не несет ответственности за содержание других Интернет-сайтов, включая веб-сайты, через которые Пользователь мог получить доступ к настоящему Сайту или на которые Пользователь мог перейти с данного Сайта. Компания не несет никакой ответственности в связи с такими сайтами или ссылками.
Если предоставляются гиперссылки на Интернет-сайт третьей стороны, это делается с наилучшими намерениями и с тем убеждением, что такой веб-сайт содержит или может содержать материал, имеющий отношение к содержанию настоящего Сайта. Такая гиперссылка не означает, что Общество проверило или одобрило соответствующий сайт третьей стороны или его контент или что оно выражает одобрение, спонсирует или поддерживает аффилированные отношения с таким Интернет-сайтом, его владельцами или провайдерами.
Юрисдикция
Использование Пользователем настоящего Сайта и действие настоящих условий и положений регламентируются законодательством Российской Федерации. Суды Российской Федерации имеют эксклюзивную юрисдикцию в отношении всех споров, возникающих в связи с использованием вами настоящего Сайта. Посещая данный Сайт, Пользователь безоговорочно соглашается подчиниться юрисдикции государственных судов Российской Федерации по месту нахождения Общества.
Персональные данные
Персональные данные — это любая информация, которая может быть использована для идентификации Пользователя как отдельного лица, в том числе фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты), семейное, имущественной положение и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории персональных данных.
Если во время посещения Сайта Пользователь оставляет на нем свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и адрес места жительства и/или места пребывания), заполняет бланк заказа, или предоставляет Обществу другие сведения, такие персональные данные могут быть собраны и использованы для предоставления Пользователю продуктов или услуг, выставления счетов за заказанные продукты или услуги, для продажи продуктов и услуг или для общения в иных целях.
Направление информации через сайт означает согласие Пользователя на обработку предоставляемых персональных данных в объеме, в котором они были предоставлены Обществу, в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации, любым способом, предусмотренным Обществом и (или) установленных законодательством Российской Федерации.
Целью обработки персональных является оказание Обществом и её партнерами услуг, а так же информирование об оказываемых Обществом и её партнерами услугах и реализуемых продуктах.
В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных Общество прекратит их обработку и уничтожит данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения Обществом такого отзыва.
Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть осуществлен в письменной форме.
Общество может привлечь стороннюю организацию для оказания содействия по предоставлению вам запрошенной информации, продуктов и услуг. При таких обстоятельствах будут приняты меры с целью обеспечения того, чтобы персональные данные Пользователя хранились в строгом соответствии с политикой сохранения конфиденциальности Общества и использовались только для выполнения запросов Пользователя. Общество не продает и не раскрывает персональные сведения Пользователя третьим сторонам с тем, чтобы они могли продавать свои продукты или услуги Пользователю.
Данные, собираемые автоматически
Имя домена и IP адрес Пользователя регистрируются автоматически. Эти данные не являются личными сведениями и не идентифицируют Пользователя как отдельное лицо; они содержат только информацию о компьютере, используемом для просмотра Сайта. Такие данные используются для того, чтобы установить, в какой точке земного шара используется Сайт, для обеспечения полноты охвата, а также для анализа перехода по ссылкам с целью лучшего понимания особенностей использования Сайта. Общество не устанавливает связь между такими автоматически собираемыми данными и личными сведениями о конкретных людях.
Тем не менее, личные сведения могут быть собраны непреднамеренно при помощи автоматических функций коммерческого программного обеспечения третьей стороны, используемого для обеспечения работы серверов Общества. Если выяснится, что имел место такой сбор сведений, будут приняты разумные меры для удаления этих данных из систем Общества.
Чаты, доски объявлений и тематические конференции
Если в какой-либо момент времени на настоящем Сайте будет работать какой-либо чат, доска объявлений или форум, тематическая конференция и т. д., любая информация, которую Пользователь раскроет там, может быть собрана и использована в соответствии с настоящими Общими условиями. Общество не несет ответственности за использование другими сторонами любой информации, предоставляемой Пользователем указанным сторонам посредством чатов, досок объявлений, тематических конференций и других средств общения данного Сайта.
Безопасность
Общество реализует политики, правила и принимает технические меры безопасности для защиты личных сведений, находящихся под контролем Общества, в полном соответствии с законодательством по обеспечению конфиденциальности и защите данных, которое относится к юрисдикции, применимой к Сайту. Разработаны меры безопасности по предотвращению доступа, ненадлежащего использования или раскрытия, изменения, незаконного уничтожения или случайной потери данных.
Дети
Настоящий Сайт не предназначен для детей и не ориентирован на них. Общество преднамеренно не собирает сведения, поступающие от детей. Однако программное обеспечение, используемое для поддержания работы настоящего Сайта, автоматически не отличает посетителей моложе 18 лет от остальных пользователей, поэтому Общество требует, чтобы лица моложе 18 лет получили согласие родителя, опекуна, учителя или библиотекаря на просмотр настоящего Сайта. Если Общество обнаруживает, что ребенок разместил личные сведения на данном Сайте, то принимает разумные меры для удаления таких сведений из файлов компании.
Условия пользования, уведомления и новые редакции политики
Если Пользователь решает посетить данный Сайт, посещение и любой спор в отношении сохранения конфиденциальности регламентируются настоящими Общими условиями. Общество сохраняет за собой право вносить изменения в настоящую политику без уведомления Пользователей. Если Пользователь продолжает пользоваться Сайтом после внесения изменений в данную политику, это означает, что Пользователь принимает такие изменения.
Что именно надо сообщить о технической проблеме:
- Укажите тему запроса. Тема должна отражать краткую суть проблемы.
- Примеры тем: Ошибка при подаче статьи в журнал; Не удается сгенерировать договор; Не могу войти на портал;
- Какие темы писать не надо: «Ошибка!»; «Вопрос»; «Срочно!». Это никак не ускорит обработку заявки, но потребует больше времени для её обработки.
- Опишите проблему. Чем подробнее описана проблема, тем проще разобраться в ее причинах. Что надо указать:
- Что вы делали, перед тем как проблема возникла: Выполнил(а) вход в личный кабинет;
- Какой вы ожидали результат: Должен был открыться личный кабинет;
- Какой результат вы получили: Возникла такая-то ошибка, вылезло окошко с текстом и пр.
- В подписи укажите ФИО, название организации, город, контактный номер телефона для связи.
- Сопроводите обращение уточняющей информацией:
- Когда проблема возникла (Дата/Время). Как часто появляется;
- Приложите скриншот (снимок экрана) с ошибкой, если это возможно. Объем отправляемого сообщения, включая все приложения к нему, не должен превышать 15 Мб. В противном случае ваши письма будут отсечены системой;
- Укажите адрес домена, на котором вы работаете.
Как не надо писать обращения, такие обращения рассматриваются в последнюю очередь:
- «Ничего не работает! Срочно почините!»;
- «У меня тут программа раньше работала, а потом перестала. Когда снова заработает?»;
- «Я не могу работать. Позвоните мне!».
Сколько обращений надо написать?
- Необходимо придерживаться правила «одна ошибка — один запрос в поддержку». Если у вас две разных проблемы — «поправить контент» и «разместить свежий выпуск журнала» — сделайте две заявки.
- Нельзя создавать несколько обращений, посвященных одной проблеме чаще, чем раз в два часа. Повторные заявки замедляют работу техподдержки.
Время обработки заявки?
- Задания выполняются в порядке живой очереди, обычно выполнение работ занимает от нескольких часов до трех-четырех дней.
- Пожалуйста, не пишите в выполненные и закрытые задания, даже если это слово «Спасибо». Нам очень приятно, но это вносит беспорядок в систему отчетов и управления заданиями.
- Пожалуйста, четко формулируйте свой вопрос или задание. Сотрудники службы зачастую незамедлительно берут задание в работу, и поэтому многочисленные корректировки ведут как минимум к замедлению работ, а как максимум — к ошибкам.
Куда сообщать о технических проблемах?
- написать письмо на support@editorum.ru,
- заполнить форму обращения в техподдержку,
- написать нам в онлайн-чат.
Вы можете ознакомиться с инструкцией по работе с системой.
Руководство пользователя (pdf)